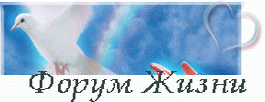
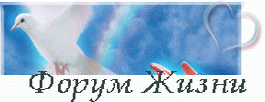 |
Ион-Воевода Лютый (1572—1574). Историческая повесть Богдана Хадшеу.
Так перелистывал я историю целого народа; эту книгу печали, величия и побед!
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ Историк является одновременно и тружеником, и артистом. , Как труженик он собирает. сырой материал, как артист он придает ему то особое выражение, благодаря которому статуи Кановы и дворцы Альгамбры перестают быть простыми грудами камней, а Мадонна Рафаэля — куском полотна или доски, впитавшим в себя растительные краски. Скульпторы, художники, архитекторы — это только артисты, которым народ доставляет все необходимое. Историки, наоборот, сами собирают, сами добывают камень, ткут полотно, режут доски, варят краски; и они же потом сами ваяют, созидают, рисуют! Поэтому можно встретить много скульпторов, много архитекторов, много художников, но мало историков. Одни собирают, не будучи способными создавать; другие пробуют созидать, не имея терпения собирать. Одни возводят фундамент без здания, другие — здание без фундамента... |
Прежде чем приступить к написанию настоящей книги, я в течение многих лет, копаясь в заграничных и националепых библиотеках и архивах, собрал в поте лица огромное количество сведений, в той или иной степени связанных с задуманной мною темой.
С помощью трех художественных скальпелей — критики, перспективы и колорита — я подверг операции эти малоудобоваримые материалы. Критика помогает раскрыть истину. Поэтому я решил раз и навсегда исходить только из надежных источников: из показаний современников, зачастую очевидцев, сопоставляя эти свидетельства и подвергая их критическому анализу. Я не делаю ни одного утверждения без того, чтобы не дать соответствующей сноски, а там, где требуется более длинная цитата, я привожу документы в оригинале или в подробном аналитическом изложении. Перспектива дает возможность расположить части целого таким образом, чтобы не допустить существенных пробелов и избежать излишней детализации: ничто не должно быть лишним, ничто не должно быть бессвязным; главное должно рельефно выступать на первом плане, второстепенное— вырисовываться на втором, а вспомогательное быть еле заметным. Картина должна получить общий фон, поэтому вначале мы даем характеристику положения в Европе того времени. • Затем на этом фоне выступает фигура самого героя: сперва она едва вырисовывается вдалеке, потом разрастается, становится все отчетливее и, приближаясь к конечной цели, достигает гигантских размеров и вдруг... подает ниц! Но взгляните на него, даже поверженного в прах: он все еще величественнее ничтожных пигмеев, которые попирают его труп ногами! Наконец, после гибели героя, читатель с содроганием следит за тем, как один за другим исчезают плоды деяний усопшего гения, и злосчастная тьма заволакивает весь горизонт. Остается одна лишь надежда: воскресение мертвых! Таковы принципы нашей критики и перспективы: убедитесь теперь сами, насколько мне удалось>, или> вернее, насколько мне повезло остаться верным им до конца. Что касается колорита, то я знаю одно: сердце чувствовало во всей глубине то, что писало перо; а когда сердце чувствует, фраза становится сжатой, лаконичной, живой, как биение пульса... 28 февраля 1865 г. |
Введение
Европа семидесятых годов XVI века Для лучшего понимания главного присовокупляю и второстепенное, подобно тому как плугу необходимы все его детали, хотя только лемех служит непосредственно для вспашки. Св. Августин. Ое С1и. Ое1; XVI, 2*. Свое исследование о Шекспире Гизо начинает длинным отступлением об Адаме и Еве. Мы будем более скромными: прежде чем писать об Ионе-Воеводе, окинем беглым взглядом только одну Европу и только в определенный момент ее исторического развития. После того как мы ознакомимся с машиной в целом, нам легче будет понять ту ее небольшую часть, которая, собственно, интересует нас. Испании на мгновение удалось стать самым могущественным государством в Европе. Под скипетром Мадридского монарха объединились все маврские, кастильские и арагонские провинции, Португалия, Сицилия, Сардиния, Неаполь, Нидерланды и Америка. Ни один король не обладал такой огромной территорией, не получал такого колоссального дохода и не имел таких искусных генералов. И кто же был этим счастливым властелином народов? Сын великого Карла V — ничтожный Филипп II. Двумя смертными грехами он навсегда развенчал испанское величие: своим религиозным фанатизмом и ненавистью к демократии. Нидерланды были .охвачены протестантизмом и пользовались автономией; Филипп II ввел там инквизицию против врагов католицизма и виселицу против врагов абсолютизма. Но Нидерланды подняли знамя революции, и Филипп II потерял наиболее предприимчивых и просвещенных из своих подданных. * О граде божьем (лат.). * Там, где кончается мир (лат.). |
Англия была страной реформации и конституционализма; Филипп II решил подавить ее грубой силой, но в сражениях потерял весь испанский флот.
Во Франции крепла партия гугенотов; Филип II не пожалел миллионов, чтобы стереть ее с лица земли, и все же там был возведен на престол король-гугенот Генрих IV. Наконец Филипп II скончался, презираемый всеми, быть может, даже самим собой; он оставил казну опустошенной, армию деморализованнрй, территорию расчлененной, а сам народ изнеможенным. Императором Германии был Максимилиан II, одна из тех флегматичных фигур, которые долгое время уступали место друг другу на троне Австрии, создавая впечатление, будто там царствует одна и та же бессмертная личность вроде Тибетского Далай-Ламы. Данник Турецкой Порты, разбитый горсткой поляков, побежденный трансильванским князьком, он не был достоин даже того своеобразного девиза, которым руководствовалась династия Габсбургов: «Другие сражаются, а ты женишься, о счастливица Австрия! Другие завоевывают государства с оружием в руках, ты же получаешь их в виде приданого». |
Во Франции правил король Карл IX.
Вернее: правил не он. Правила его мать Екатерина Медичи; правил герцог Гиз; правил принц Конде; правил папа; правил Кальвин; правили все... кроме короля Карла IX. Одно-единственное событие, подобное тому, которое прославило когда-то Герострата, увековечило имя этого сонливого Нерона. Кто не содрогнется, если ему только покажется, что он слышит слова «Святой Варфоломей»? Десятки раз Карл IX бросался в объятия католической партии Гизов; десятки раз он протягивал дружескую руку кальвинистской партии Конде; десятки раз пытался он стряхнуть материнскую тиранию Екатерины Медичи, но снова и снова лобызал он цепи, которые его сковывали, пока наконец в один прекрасный день или, вернее, в одну прекрасную ночь в отчаянии от собственного ничтожества он решил доказать всему миру, на что способен настоящий король: 30 ООО французов были истр***ены самым предательским образом. Говорят —о ужас!—что король собственными руками убил нескольких из них! Он умер в возрасте 24 лет — игрушка в руках политических партий, палач своих подданных, загадка для потомков! Один из братьев Карла IX был избран королем Польши, где после смерти Сигизмунда-Августа воцарилась анархия. Покойный король Польши был очень труслив: он боялся турок, боялся русских, боялся татар; но он отличался благоразумием в управлении страной, религиозной терпимостью, не свойственной другим католическим странам, покровительствовал литературе. |
Новый польский король также боялся турок, русских и татар; но ко всему этому прибавились его полная неспособность к управлению, высокомерное презрение к национальной литературе, фанатичная ненависть ко всему, что не было дозволено римским папой.
В Польшу Генрих де Валуа только и принес с собой моду короткой одежды и парижские танцы. Московское княжество было дремучим лесом, в котором хозяйничал Иван Грозный. Прозвище «Грозный» недостаточно выразительно, чтобы охарактеризовать этого странного властелина: удачнее было бы назвать его Иваном Безумным. Не удивительно, что он, в возрасте четырех лет возведенный на престол под опекой распутной матери, познавший с детства горечь оскорблений со стороны любовников царицы, а затем испорченный угодничеством и лестью придворных, воспитанный в атмосфере вечного издевательства и подстрекательства и с колыбели отличавшийся особой чувствительностью,— не удивительно, что он в конце концов сошел с ума. Персидский шах послал ему в подарок слона: московский царь приказал разрезать его на куски, так как несчастное животное не захотело стать на колени перед его величеством... Этих примеров достаточно. И все же он усмирил и поляков, и шведов, и татар, навел страх на турок, расширил границы своего государства... Но каким образом? Все это он успел сделать благодаря животной преданности своих подданных, которые, терпя от него зверские побои, не переставали пресмыкаться перед ним. Сам же он никогда не приближался даже к месту сражения. |
От русского царя перейдем к турецкому султану.
Достойного апофеоза Сулеймана Великолепного уже не существовало: ему наследовал сын Селим. Селиму удалось расширить границы своей империи, но его победы, как и победы русских, явились следствием могущества народа, а не результатом полководческого гения правителя. Селим, как и Иван, не знал, что такое поле битвы. Административная власть находилась в руках визиря и одного из фаворитов Селима... еврея! Султан не выходил из гарема. В честь красавиц-черкеше-нок Селим осушал один бокал за другим мальвазийского вина. В турецких хрониках он известен под прозвищем «Пьянчуга». Италией, поскольку ее не успели покорить испанские войска, управляли священник и коммерсант: Рим и Венеция. От папской власти осталась только слабая тень ее былого величия: разуму удалось отвоевать многое из того, что когда-то подчинило себе суеверие; Лютер потряс до самых основ трон Гильдельбрантов; почти вся Германия, Англия, половина Франции, половина Польши были озарены светом протестантизма, и только Испания оставалась непреклонной в своей слепой преданности показному блеску католицизма. Будучи не в силах диктовать миру свои законы, папа Григорий XIII решил ввести новый календарь. Венеция давно уже утратила диктаторскую власть над европейской торговлей: после открытий Васко да Гама и Колумба владычество над морями перешло к испанцам и португальцам. Теперь ей был нанесен новый сокрушительный удар: турки захватили Кипр и Циклады. Упадок Венеции нельзя приписать личной неспособности монарха — она была аристократической республикой; и тем не менее печально, что ни один из многих ее правителей ничем себя не проявил. На противоположном конце Европы между королями Швеции и Дании завязалась ожесточенная борьба не на жизнь, а на смерть. , Из-за чего? Каждый из них претендовал на одну и ту же эмблему для своей королевской печати. Полные энергии скандинавские народы впали в детство. |
Может показаться странным, что наступил момент, когда единственным, поистине великим монархом, из тех, кому суждено было править самыми цивилизованными и самыми могущественными народами Европы, стала женщина.
При королеве Елизавете началось бурное развитие английского флота, торговли и литературы. Королева Елизавета окончательно подорвала могущество Испании. Королева Елизавета искоренила слепое поклонение перед папой. Королева Елизавета основала Британское содружество... Таково было положение на европейских тронах в тот исторический момент, о котором идет речь... Испанией, Германией, Италией, Швецией, Данией, Польшей, Россией, Турцией... правили попы, дети, ничтожества, сумасшедшие, пьяницы. Именно в этот момент на престоле небольшого дунайского княжества и появляется господарь, которому только самое подлое предательство помешало преобразить лицо Европы и создать на Балканском полуострове новую Римскую империю. Великий правитель! Великий дипломат! Великий полководец! |
1. Авантюрист
Слон, как бы он ни был мал, пользуется уважением остальных обитателей лесов. Змея, едва родившись, опасна ядом своего жала. Короли е колыбели чувствуют врожденную силу управлять народами... Калидаса. Драма «гВикрама и Урваси». После Стефана Великого Молдавией правил его сын Богдан Кривой; после Богдана Кривого — его сын Стефан Младой; последний умер, не оставив наследников; с этого времени на сцене молдавской истории разыгрывается длительная трагическая борьба между незаконнорожденными сыновьями княжеского рода. Этих незаконнорожденных сыновей было много, так как пришельцы из Италии, поселившиеся в Дакии в эпоху упадка римских нравов, принесли с собой странные понятия о брачных узах; этим понятиям не в состоянии была противостоять даже христианская вера; со временем они еще сильнее укоренились и стали чем-то обычным. |
В Римской империи во времена Траяна создалось очень легкомысленное отношение к семье.
Брак окончательно потерял свой первоначальный характер святости и торжественности, которым он отличался во времена римской республики, и стал супружеством рег изит — как об этом говорится в имперских законах: «Он был обычным обоюдным соглашением, ничем не скрепленным ни по гражданской, ни по религиозной линии, и поэтому ни один из супругов не чувствовал никакой серьезной обязанности по отношению к другому». Но то, что было дозволено любому смертному, считавшему себя славным потомком распавшейся Римской империи, в десятки и сотни раз больше могли позволить себе те из них, в руках которых была сосредоточена власть; если простому крестьянину разрешалось менять жен хоть каждый день, с условием уплаты государству по 12 бань за каждый развод, то можно себе представить, вернее, почти невозможно представить, какую неограниченную свободу действий в отношении женитьбы имели господари. У некоторых из них, как, например, у Стефана Великого, было по пять или шесть законных жен, не говоря уже о незаконных. Все они следовали примеру своего прославленного предка Мецената, который, по словам известного римского философа, «был женат тысячу раз». В стране, где нравы пали столь низко, было бы смешно говорить о каких-либо законных ограничениях против незаконных детей, которые, естественно, составляли большинство населения; удивительно только, что встречались еще люди, вступавшие в законный брак, хотя он потерял всякий престиж в глазах народа, а незаконнорожденные дети пользовались теми же правами, что и законнорожденные; более того, зачастую именно незаконнорожденные и восседали на княжеском престоле! Стефан Великий, Богдан Кривой и Стефан Младой не упускали случая оставить после себя незаконнорожденных детей везде, где это было возможно: в рыбачьих хижинах, в купеческих домах и даже в непроходимых лесах Бессарабии, где обитали славившиеся своей храбростью кодряне и не менее известные своей красотой кодрянки. Трое из этих незаконнорожденных детей, бастардов или «спуров», как их называли древние римляне, правили Молдавией в течение целого полустолетня. Один из бастардов Стефана Великого—Петр Рарсчп — захватил власть уже в зрелом возрасте, спустя 20 лег после смерти своего отца; вскоре он стал одним из самых знаменитых господарей Молдавии, любимцем народа и грозой врагов; умирая, он передал трон своим сыновьям. |
В это время по свету странствовал другой бастард, сын Богдана Кривого — Александру Лэпушняиу; заручившись поддержкой своих сторонников внутри страны, он вступил в Молдавию во главе чужеземных войск, убил своего двоюродного брата — сына Рареша и свою тетку — вдову Рпрсша, а двоюродную сестру — дочь Рареша — взял в жены. Эти чудовищные злодеяния нового господаря положили начало кровавому режиму в стране. Современники сравнивали Лэпупшм-ну с фракийским царем Диомедом, кормившим коней человеческим мясом.
В годы царствования бастардов Петра Рареша, а затем Александру Лэпушняну третий бастард, сын Стефана Младого от армянки — жены Сербега, подрастал на чужбине в полной неизвестности, ожидая, когда придет его черед вступить на престол Молдавии. Своим темпераментом и даже своей наружностью Ион очень походил на своих родителей. В молдавской хронике дается следующее описание характера его отца: «Сей Стефан-Воевода Младой нравом походил на деда своего Стефана Великого, ему везло на поле брани, и он преуспевал во всем, хотя и был молод; быстро он впадал во гнев и легко проливал кровь». Ион унаследовал от своего отца храбрость, жестокость и остроту ума. Внешностью он напоминал свою мать-армянку: смуглое лицо, густой и черный, как вороново крыло, волос, орлиный, восточного типа, нос, как у знаменитого Аттилы, каким мы его знаем по изображению на монетах, высокий лоб, широкий у основания и суживающийся кверху, красивый лоб, но совсем не в валашском духе. Бастарды не имеют отца. Народ окрестил своего героя по национальности матери — Ионом Армянином, подобно тому как Александру-Воевода, сын лэпушнянки — был Лэпушняну, а Петр-Воевода — по прозвищу своей матери — Раре-шом. В 1561 году, в возрасте почти сорока лет, прожитых в полной безвестности, Ион неожиданно появляется на арене истории. Александру Лэпушняну стал угрожать Якоб Деспот, серб по происхождению, родственными узами связанный с молдавской династией. |
Пришло время и Иону вспомнить, что он сын господаря и имеет то же право на трон Молдавии, что и Лэпушняну, и значительно большее, нежели Деспот.
И он стал напоминать о себе. В то время как Деспот искал поддержки у польского магната Ласского, Ион обратился к не менее могущественному магнату Фирлею. При выборно-аристократическом строе, который существовал в Польше, король был ничем, магнаты были всем. Они управляли государством, располагая в законодательном собрании голосами продажной мелкопоместной шляхты; они командовали армией, имея каждый свою феодальную дружину; они создавали свои панские дворы, соперничавшие с королевским двором и зачастую превосходившие его по великолепию и численности придворных. Король был один и поэтому боялся своих магнатов; их же было много, и они никого не боялись. Ласскому удалось выгнать Лэпушняну и посадить на престол Молдавии Деспота; Фирлей же оказался менее предприимчивым: упустив удобный случай, он не смог сделать то же для своего друга Иона. Ограничимся пока описанием их взаимоотношений: польский магнат был лютеранином, ярым поборником реформации, главою протестантов в Польше. Чтобы добиться его расположения, Ион должен был объявить себя последователем учения Лютера. Это было первое отступничество нашего героя. Впоследствии он неоднократно переходил от одной веры к другой, меняя их как перчатки. Нерешительность Фирлея заставила Иона покинуть Польшу и отправиться в Крым ко двору хана, где он вскоре завоевал симпатию наследника трона Махмеда-Калги, названного в татарской хронике доблестным витязем. Люди большой души всегда находят общий язык: валашский авантюрист понравился татарскому князю. В то время крымский хан воевал против Московского государства. Махмед-Калга командовал татарским войском; можно полагать, что Ион, сопровождая своего друга в военных походах, тогда еще отличился удивительным хладнокровием и необычайной физической силой, что позднее сделало его грозой на поле битвы. Во всяком случае, Махмед-Калга и Ион стали настолько близкими друзьями, что при отъезде последнего из Крыма в 1563 году Махмед-Калга вручил ему послание к польскому кооолю Сигизмунду-Августу, в котором писал: «Очень прошу тебя оказать милость и позаботиться об этом сыне молдавского господаря». |
Польша тогда находилась в некоторой зависимости от татар.
Ежегодно в виде подношения польский король слал хану деньги, ***на, шелка, различные мануфактурные изделия. Страх поляков перед татарами вполне понятен: ведь хан Девлет-Гирей своими ратными подвигами успел удивить весь мир; подданные называли его громким именем «покоритель народов». Поэтому Ион имел основание думать, что рекомендация от сына татарского хана сделает свое дело. Но — увы! Надежды оказались тщетными. Получив послание из рук Иона, король наградил его милой улыбкой, и вместо того чтобы предоставить в его распоряжение войско, с помощью которого он бы смог завоевать трон своих дедов, Сигизмунд, очевидно, дал ему обычный в таких случаях совет: «Поищи себе магната, который помог бы тебе проникнуть в Молдавию, подобно тому как это сделал Ласский для Деспота; этот магнат сумеет дать объяснение своим собратьям по сейму; в случае, если нам начнут угрожать турки, мы им скажем, что во всем этом виновата не Польша, не польский король, не сейм, а только один магнат, осмелившийся нарушить общественный порядок». И все же Ион решил не об/ращаться к польским магнатам; среди них был только один Ласский, все остальные не отличались от Фирлея; он не пожелал унизиться и перед королем Сигизмундом-Августом, любителем громких фраз, но неспособным что-либо сделать. Ион исчезает с нашего поля зрения. В это время в Молдавии разыгрывается ужасная трагедия: Деспота свергает с престола и убивает Стефан Томша; Стефана Томшу свергает и изгоняет из страны Александру Лэпушняну, которому султан соблаговолил вернуть троп Молдавии,— все это происходит в течение нескольких месяцев. Как только кровавый Лэпушняну вновь становится господарем Молдавии, на горизонте снова появляется Ион, но на этот раз уже в Вене. Немцы вели в это время кровопролитную войну с турками, и император Максимилиан II был рад случаю иметь при своем дворе валашского князька, которого можно было бы использовать для переворота в Дунайских княжествах. |
Он принял Иона на службу в австрийскую армию и громогласно пообещал дать ему 7 или 8 тысяч войска, чтобы из-' гнать Лэпушняну из Молдавии.
Но это были только обещания в чисто немецком духе. И все же Турецкая Порта была обеспокоена. Под предлогом переговоров с Максимилианом султан направил в Вену посла, для того чтобы заманить в Константинополь опасного Иона. Посол рассказал Иону о коварстве и беспомощности нем< цев, способных только на обещания; он описал ему благородство и могущество султ&на; по словам посла, султану ничего не стоило подарить любому из своих подданных не только Молдавию, но и десяток таких княжеств, как Молдавия; наконец, он обещал Иону от имени султана золотые горы. Ион уже успел разочароваться в христианах из Польши и уже имел дело с крымскими магометанами. Он поверил словам посла, тайно покинул австрийскую армию, пересек Дунай и прибыл в Константинополь. |
Восточные народы питают слабость к физически сильным людям, которыми Магомет населяет рай.
Ион был гигантского роста, крепкого сложения, сильный и мужественный. Одним словом, внешность нашего героя произвела на турок то же впечатление, что и на крымских татар. «Визирь Мехмед-Соколи, — писал французский агент в своем отчете персидскому двору, — познакомившись с Ионом, принял его очень хорошо и стал ожидать удобного случая, дабы представить его султану». Прошел месяц. Несмотря на расположение визиря к Иону, политические интересы Турции потребовали, чтобы он был отстранен от двора: во-первых, султан собирал войско, чтобы выступить против Максимилиана, и ему необходимо было сохранить спокойствие в турецких провинциях; во-вторых, Лэпушняну, при поддержке турецких войск вновь занявший трон Молдавии, проявил себя во время своего второго правления большим турком, нежели сами турки, и потому он имел полное право требовать от султана, чтобы тот не покровительствовал его сопернику. Ион был выслан на остров Родос. |
В этой стране ядовитых змей и благоухающих роз, известной у греков под именем Макара, то есть страна счастья, в этой стране, где каждый камешек, каждая пещера, каждый холм хранят еще свежие следы героизма иерусалимских крестоносцев, Ион пробыл больше года.
180 Султан Сулейман Великолепный умер в 1566 году, и ему наследовал его сын Селим II. В это время начали распространяться слухи, что Лэпушняну наказан якобы за свои преступные деяния: стал немощен, потерял зрение, периодически впадает в детство, более печальное, чем сама смерть. Воспользовавшись этим, визирь Мехмед-Соколи, все еще находившийся у власти, призывает из заточения своего друга Иона. О пребывании Иона в Константинополе в течение трех-че-тырех лет имеются точные сведения, которые все же трудно объяснить. Авантюрист становится миллионером, самым крупным торговцем драгоценными камнями в столице Оттоманской империи; своим богатством и роскошью он затмевает всех турецких сановников. Торговля чревата неожиданностями и даже чудесами, в которые трудно поверить и которые все же случаются в действительности; законы кредита, денежного обращения, конкуренции и многие другие весьма гибкие и всеобъемлющие законы политической экономии не в состоянии все же объяснить нам некоторые тайны; коммерсант, как и священник, требует, чтобы ему верили на слово. |
Немецкий историк Шурцфлайш, живший столетием позже Иона, сделал первую попытку описать жизнь нашего героя. Приведем краткую выдержку из его книги: «Ион стал господарем, поднявшись из самых низов, подобно тому, как у древних римлян и сарматов простые крестьяне становились у кормила государства, и подобно тому, как в настоящее время в Бельгии коммерсанты становятся во главе флота».
Подобное утверждение, несомненно, представляет интерес, но сам Ион и не думал, конечно, подражать римлянам, сарматам или бельгийцам. - . Его намерения были более прозаичны. Он прекрасно знал, какое магическое действие оказывают на Турецкую Порту богатые подарки и, в особенности, драгоценные камни. Лет за 30 до этого Петр Рареш, подарив дочери султана Сулеймана красивую безделушку, получил трон Молдавии. Сам Ион имел случай воочию убедиться, как португальский еврей, завоевав расположение султана Селима своими товарами, стал герцогом Наксоским. Обладатели драгоценностей меняли рубины на княжеские короны; поэтому искусство торговли привлекало внимание Иона. Чтобы лучше преуспеть в этом деле, он вторично меняет религию. Воспитанный в духе армянской церкви и принявший затем, благодаря Фирлею, лютеранство, Ион переходит теперь в магометанскую веру. |
Став другом визиря и приятелем высших турецких сановников, сблизившись с самим султаном Селимом, Ион с нетерпением ждал подходящего случая, чтобы захватить вожделенный трон Молдавии, на котором после смерти Лэпушняну восседал его сын Богдан; по свидетельству летописцев, у этого пятнадцатилетнего юноши были две роковые слабости: ему нравились шутовские забавы и поляки.
Под видом коммерсанта Ион исколесил границы Молдавии, появляясь то в Галиции, то в Подолии, то на Пруте, то на Днестре. Неразлучный и преданный друг Иона, молдавский боярин Иеремия Голия, бежавший от Лэпушняну, всюду сопровождал нашего героя, помогая ему связываться с боярами, недовольными Богданом. Итак, в Молдавии образовалась сильная оппозиционная группа из крупных бояр, которые обратились с жалобой к Турецкой Порте. Султан только и ждал такого выступления со стороны молдаван. Богдана официально считали предателем интересов Турции. Сразу же после смерти своего отца Богдан заключил союз с Польшей, объявил себя вассалом короля Сигизмунда-Ав-густа и ожидал лишь подходящего момента, чтобы отказаться от уплаты дани Турции. Занятый войной с Венецией, султан делал вид, что ничего не знает об этом: ему не хотелось быть втянутым в новую войну на Дунае в случае, если молдаване стали бы на сторону своего господаря. Как только в Константинополь было доставлено письмо, в котором бояре жаловались на Богдана и просили Иона, султан поспешил послать его в Молдавию. Турция все же опасалась вызвать этим войну с Польшей, поэтому назначение Иона господарем Молдавии держалось в секрете и объявлено было, что он отправился на Дунай по своим торговым делам. Иона сопровождал небольшой отряд турецких солдат под видом стражи, охранявший обычно караваны, следовавшие на далекие расстояния. Проезжая через Фессалию и Болгарию, Ион привлек к себе на службу сербских, греческих и болгарских добровольцев. В общем он располагал армией численностью не более 4—5 тысяч человек. Но ему не требовалось и этого, так как его призвал сам народ. Как только Ион перешел Дунай, Богдан со своими приверженцами поспешил удрать, чтобы спастись от бояр, решивших выдать его туркам. На своем пути от Галаца до самой Сучавы Ион не наткнулся ни на какое сопротивление. При въезде в столицу Молдавии бояре и народ встретили его традиционными приветственными возгласами «Отец Молдавии», подобно тому как римских императоров встречали словами «раДез ра(пае». Этот почетный титул молдаване давали лишь тем господарям, которые избавляли их от ига тиранов. Деспот получил его за изгнание жестокого Лэпушняну, Ион — за ниспровержение непопулярного Богдана, которого народ невзлюбил за его пристрастие к шутовским развлечениям и полякам. |
В то время как Иона с большими почестями принимали в столице Молдавии, Богдан, запершись в Хотинской крепости, молил о помощи короля Снгизмунда-Августа и своих друзей среди польских магнатов.
Польский король сделал все, что было в его силах: он направил посла в Оттоманскую Порту; но посол вскоре вернулся ни с чем, если не считать его аудиенции у Иона-Воево-ды, который благосклонно разрешил ему проехать через Молдавию, но при^ встрече наградил его таким уничтожающим взглядом, что несчастного дипломата бросило в дрожь: ему. еще не приходилось видеть взгляда, более ужасающего. И действительно, маленькие черные глаза нашего героя с необычайной силой отражали его душевное состояние: в минуты внутреннего удовлетворения они светились радостью и теплотой, в минуты гнева они наливались кровью и грозно г сверкали из-под густых сросшихся бровей, которые вздрагивали от нервного напряжения. Польским магнатам, связанным с Богданом родственными-узами, все же кое-что удалось для него сделать. Они собра-, ли, правда, с большим трудом, небольшое войско в 3000 человек, составленное исключительно из отпрысков наиболее знатных польских семейств. |
Кроме самой неприступной в Молдавии Хотинской крепости и кроме помощи со стороны поляков, Богдан, как и все свергнутые с престола господари, имел приверженцев и среди молдавских бояр.
Чтобы избавиться от своих врагов внутри страны, Ион-Воевода приказал всем им отрубить головы. Молдавская знать пришла в ужас при виде того, как в руки цыган, исполнявших в дунайских княжествах роль палачей, попали наиболее знатные бояре, среди которых был и достопочтенный боярин Ионашку Збиеря, великий ворник Нижней Молдавии, выходец из древнейшей боярской семьи. Его голова скатилась к ногам палача-цыгана в первый день пасхи. Тем самым Ион-Воевода хотел показать, что никакой праздник не сможет спасти от возмездия тех, кто покушается на безопасность страны. Национальные интересы прежде всего: о пасхе можно подумать и позже. Новый ворник Нижней Молдавии Думбрава не происходил из знатного рода, но он был человеком большой души. Ион-Воевода поручил ему отразить нападение поляков. Напутствие, полученное им по этому случаю от господаря, напоминало принцип, которым руководствовался Сципион-Старший: «Дай врагу не только возможность сбежать с поля битвы, но и помоги ему в этом». Думбрава в своем распоряжении имел 6000 воинов из районов Нижней Молдавии: Сорок, Оргеева и Фэлчиу, издавна отличавшихся своей воинственностью; с ними был и отряд бессарабских турок под командованием Аккерманского санджака, прибывший по просьбе Иона-Воеводы. С таким войском легко было разгромить 3000 поляков, вторгшихся во вражд****ю им страну, но молдавский господарь не счел нужным ссориться со своим могущественным соседом, рассчитывая, напротив, что в будущем дружественные отношения с ним могут ему очень пригодиться. Думбраве велено было щадить врагов. Поляки перешли Днестр выше Хотина* прошли знаменитые Козминские леса и направились к Пруту. Козминские леса! Одно упоминание о них наводило ужас! За восемьдесят лет до этого прадед Иона-Воеводы, Стефан Великий, уничтожил в этих местах весь цвет польской армии. Многочисленные холмики белых скелетов погибших тогда поляков, ярко выделяющиеся на фоне зеленой листвы, остались самым красноречивым свидетельством кровавого побоища. По этому же пути в Молдавию проник польский магнат Ласский, чтобы посадить на престол Деспота вместо Лэпуш-пяну. Поляки каждый раз неизменно избирали этот трагический путь для нашествия на Молдавию, считая, что чувство мести должно будет разжечь ожесточение польских воинов, так как в Польше не было ни одной семьи, которая не оплакивала бы своего отца или деда, погибшего от руки Стефана Великого! |
Польское войско возглавлял Мелецкий, самый выдающийся из польских военачальников того времени. За несколько месяцев до происходящих событий, учитывая исключительные заслуги перед родиной, его чуть было не избрали королем Польши.
Не имея в своем распоряжении артиллерии, он затребовал все пушки, которыми была оснащена Хотинская крепость, и, получив их, двинулся на юг вдоль Прута до Ште-фанешт, находящихся на одной широте с Сучавой. Здесь он рассчитывал встретиться с молдавским войском под командованием ворника Нижней Молдавии Ионашку Збиеря и совместно с ним пойти против Иона-Воеводы. Смерть предателя, о которой Мелецкий узнал слишком поздно, разрушила планы врагов господаря: вместо Збиеря Мелецкий встретил Думбраву. Молдавские авангардные части, разбросанные по обоим берегам Прута, все время отступали перед поляками и перепали затем на правый берег реки, стараясь заманить поляков в дремучие .леса, расположенные севернее Хырлэу, где были сосредоточены основные силы молдавского войска и гйе Полякам волей-неволей пришлось бы сложить оружие без всякого кровопролития. Поляки поняли свою ошибку и, вспоминая о поражении в Козминских лесах, начали отходить по более краткому пути прямо к Хотину. Думбрава не заставил себя ждать и следовал за поляками по пятам, изредка атакуя их небольшими отрядами турок, тем самым давая понять, что молдава,не были бы рады вообще не враждовать с польским королевством. |
ойдя до Днестра, Мелецкий обосновался в Хотинской крепости.
Думбрава расположился вблизи ее. С каждым днем положение поляков становилось все более критическим. Они не могли долго оставаться в крепости: их лошади погибали с голода, а достать корм на стороне они не могли, так как передовые отряды Думбравы охраняли все гыходы; они не могли вернуться в Польшу и через Днестр, так как начался разлив. Очутившись в безвыходном положении, несчастные беглецы обратились к начальнику передового турецкого отряда с просьбой разрешить им удалиться в Польшу и клятвенно пообещали не вмешиваться больше в дела Молдавии. Возможно, что они прибегли и к подкупу: восточные люди, начиная с султана и кончая последним дервишем, очень падки на подарки. Как бы то ни было, Аккерманский санджак со своими войсками отошел в сторону. Думбрава, выполняя указания Иона-Воеводы, только для виду открыл огонь по врагам, в действительности же пули летели над их головами. В течение пяти дней длилась переправа поляков через разбушевавшуюся реку; когда поляки наконец увидели себя на противоположном берегу, они все как один опустились на колени и вознесли хвалу господу богу... |
ДХотин все еще оставался в руках поляков.
«С запада его охраняли высокие стены и глубокие рвы; с востока — днестровские кручи». Стырковский, посетивший Хотин в годы правления Иона-Воеводы, сравнил его с лифляндским Кокенгаузеном; Вельт-ман — с английским Конвейем; Ресми-Ахмед-Еффенди — с Румилитиссаром вблизи Константинополя. Наивная народная легенда говорит, что Хотинская крепость впервые была возведена еще при жизни Иисуса Христа. Опасаясь, что поляки, сохранив этот плацдарм для будущих операций, смогут снова прийти на помощь Богдану после того, как он соберет более сильное войско, Ион-Воевода послал в Польшу епископа Исая Радауцанского с несколькими видными депутатами, чтобы начать переговоры о мире. Поляки уже почувствовали, в чьи руки, попал трон Молдавии. С необычайной для них вежливостью они поспешили принять все условия Иона-Воеводы. Они согласились выдать беглеца Богдана, но тот успел удрать из Польши; вместо него молдавским посланцам был передан брат Богдана, который погиб потом в турецкой неволе. Хотинская крепость была возвращена Молдавии. Чтобы показать чрезвычайное значение этого приобретения, доставшегося ему вопреки ожиданиям с такой легкостью, Ион-Воевода назначил пыркэлабами Хотина двух своих самых надежных приближенных: своего тестя, боярина Лупя Хуру, и ближайшего своего друга Иеремию Голию, с которым он провел на чужбине столько горьких дней. |
II. Господарь
Наконец наш герой стал спокойно править страной. Хотинская крепость снова перешла к молдаванам. Турки покровительствовали Иону-Воеводе, поляки были его друзьями. Соперник Иона — Богдан — странствовал по свету: из Польши он переехал в Вену, из Вены в Дрезден, из Дрездена в Париж, из Парижа в Копенгаген и, наконец, в Москву, где, как говорят, по приказу царя был зашит в мешок и брошен в реку: наказание... вполне заслуженное тем, кто продался чужеземцам! Две тысячи лет назад древний философ Конфуций сказал: «Когда небо желает доверить своему избраннику великую миссию, оно начинает с того, что подвергает его душу и ум в течение многих дней тяжелым испытаниям; непосильным трудом доводит до изнеможения его тело; посылает ему горе и нужду и делает так, что все его поступки оборачиваются против него же, но в конце концов оно зажигает его сердце, укрепляет его тело, вдыхает в него силу и энергию, без которых он не был бы в состоянии выполнить свое великое назначение». Таким было прошлое Иона-Воеводы до того, как он взошел на престол Молдавии; в течение полувека он кочевал из одной страны в другую; на каждом шагу разбитые иллюзии, нравственные страдания и физический труд. Посмотрим, какова же была миссия, доверенная ему провидением. |
Армянин по происхождению, лютеранин в Польше, турок в Константинополе, Ион-Воевода становится в Молдавии православным христианином; если бы он царствовал в Испании, то, по всей вероятности, стал бы католиком.
Цезарь, вступив в Галлию, поклонился богам друидов. Наполеон, будучи в Египте, молился в мечети мамелюков. Такие великие люди, как Цезарь и Наполеон, исповедуют одну единственную религию — религию славы, незыблемую в их душе, подобно дну морскому; внешние же проявления культа не трогают их, подобно волнам, скользящим по поверхности моря. В течение неполных двух лет своего мирного правления Ион-Воевода провел пять известных нам реформ: ввел личный контроль господаря за документами, исходящими из его канцелярии; перенес столицу в Яссы; освободил простой народ из-под гнета духовной и светской знати; выпустил государственные медные монеты; навел порядок в отношении податей... До 1572 года мы не встречаем ни одного документа по управлению страной, подписанного рукой господаря. Мы просмотрели не менее 10 тысяч документов в оригинале для того, чтобы убедиться в этом. До этого великий логофет как первый государственный канцлер прикладывал княжескую печать к грамотам или подвешивал ее на шелковом шнуре к пергаменту, затем урикар, то есть писарь, ставил свою подпись где-нибудь в конце; и после этого, без какой-либо другой формальности, документ получал силу^закона, даже если и давал право на владение сотней имений, и вручался тому, кому был предназначен. Случалось, конечно, что великий логофет злоупотр***ял своим правом. Господарь обычно ничего об этом не знал. Ион-Воевода заметил первым, что без его ведома может быть сделано много несправедливостей, и начал сам, собственной рукой, подписывать документы, даже датируя их. В первый же год своего правления он сменил двух великих логофетов; третий не осмелился злоупотр***ять доверием Воеводы. |
До 1572 года столицей Молдавии был город Сучава.
Это почетное право он сохранял в течение трехсот лет. В столице имелось 16 тысяч домов, 40 церквей, множество дворцов; поблизости протекала река, необычайно живописная, а Сучавская крепость славилась тем, что за столетие до этого она отразила бешеный натиск сильной польской армии. Все это и давало Сучаве ее традиционное поаво и впредь оставаться столицей Молдавии. Но неожиданно, всего лишь после нескольких месяцев правления, Ион-Воевода перенес столицу в Яссы. Это был маленький городок, расположенный к тому >ко вдали от реки. Прежние господари, которым нравилось строить дворцы всюду, где они только останавливались на два-три дня в году для охоты в соседних лесах, построили и в южной части Ясс, на краю глубокого рва, красивый каменный замок. Это давало возможность использовать его для обороны в случае войны. В Яссах имелись также армянский храм, католический костел и три православные церкви. И, наконец, украшением города была каменная баня в восточном стиле. Казалось, что из всех городов Молдавии именно этому городу ничто не могло предвещать блестящего будущего. Что же все-таки побудило Иона-Воеводу покинуть Суча-ву и выбрать Яссы? Сучава находилась очень близко от польско-венгерской границы и очень далеко от турок и татар; в случае войны она неожиданно могла подвергнуться нападению со стороны Галиции или Трансильвании; в то же самое время трудно было бы вовремя подоспеть, чтобы помешать вражескому нашествию со стороны Днестра или Дуная. Яссы же находились в самом сердне Молдавии. Это огромное стратегическое преимущество было достаточно убе'дительным, чтобы предопределить решение Иона-Воеводы. Желая добиться уважения своих соседей, он перенес свое княжеское гнездо в центр страны, чтобы обозревать ее во всех направлениях, подобно орлу, следящему с вершины скалы и за охотником, которого он должен остерегаться, и за стадом, в котором он избрал себе жертву. Известно, что с перемещением столицы Сучава, не имеющая теперь и тысячи домов, утратила свое былое величие... |
Несмотря на все это в истории нет сведений, о том, чтобы жители Сучавы жаловались или протестовали.
Все, что осталось бывшей столице от ее прежнего великолепия,— это склеп с мощами святого Иона по прозвищу Ио-зый. Он был родом из Трапезунда; из всех христианских народов только валахи не дали ни одного календарного святого, предоставив эту официальную миссию русским и грекам, среди которых люди, достойные царства небесного, насчитывались миллионами. Лет за двести до Иона-Воеводы восседавший на троне Молдавии очень религиозный господарь купил за границей и привез в Сучаву мощи этого святого, который и был объявлен покровителем всей страны. Мощи были установлены в Су-чавском кафедральном соборе. С тех пор, больше из патриотизма, чем из религиозных побуждений, этот святой, ставший национальным, пользовался у молдаван самым трогательным почитанием: в день святого Иона Сучава всегда была полна мужчин, женщин и детей, прибывших сюда из всех уголков страны. Иностранцы утверждали, что религия молдаван ограничивалась обожанием Иона Нового; и действительно, мы поклонялись тому, кого считали защитником родины. Мощи святого были для жителей Сучавы главным источником дохода. Ион-Воевода удовлетворил их алчность и не лишил Сучаву этой привилегии. И все остались довольны. Изучив положение в стране, господарь увидел, что народ, подобно могучему богатырю, отравленному укусом змеи, страдает под гнетом небольшой кучки угнетателей. Это напоминало статую Лаокоона, но статую живую и притом колоссальных размеров. С одной стороны, народ, с другой — бояре и духовенство. Народ составлял подавляющее большинство, но его достоянием были одни «души». |
Бояре и монахи были в меньшинстве, но им принадлежала «материя»: все земли, все доходы, все привилегии. Тот, кто не входил в их касту, был лишен даже клочка земли, необходимого для могилы.
О таком положении вещей говорится в летописи: «В Молдавии уж так повелось, что простые невинные люди массами без суда гибнут от руки богатых». И кажется, что из феодальной тьмы средневековья доносятся стоны крестьянской песни: «Хозяева причиняют нам только зло: лишают нас прав и голоса; они все забирают, все пожирают, заставляют нас жить в бедности и страдании...» От летописи Уреке до песен Роберта Уейса прошло целых три столетия, но наши барщинные крестьяне по-прежнему остались на положении феодальных рабов. При таких обстоятельствах господарь мог избрать один из трех путей: пойти вместе с духовенством и боярами против народа, или вместе с народом против бояр и духовенства, или, наконец, примирить одних с другими. В Молдавии были испробованы все три пути. С народом против бояр и духовенства был Петр Рареш; он умер на троне после славного двадцатилетнего правления. С боярами и духовенством против народа был Александру Лэпушняну в свое первое правление: его предали, свергли с престола и изгнали из страны. Помирить народ с боярами и духовенством пытался Якоб Деспот, этим он вызвал недоверие обеих сторон и погиб под ударами объединенной коалиции. |
Эти три случая были свежи в памяти Иона-Воеводы, и он понял, что должен пойти по тому пути, при котором возможно будет вырвать народ из когтей аристократии, большинство — из рук меньшинства, стадо — из волчьей пасти.
Упоминалось уже, что великий ворник погиб под секирой палача как раз в первый день пасхи. И другие бояре последовали за ним, хотя не все из них имели удовольствие умереть, отведав перед этим красное яичко. «Ни великих бояр, ни мелких не щадила са*** Иона-Воеводы, и убивал он их самыми разными способами», говорится в молдавской хронике. Монастыри высасывали из Молдавии кровь, священнослужители погрязли в разврате. Ион-Воевода дал им урок, небывалый еще в истории его народа. Один из епископов был уличен в преступной безнравственности; княжеский совет решил последовать Кодексу Феодосия: «Да погибнет содомит в огне перед лицом народа»; презренный епископ был заживо сожжен; Иону-Воеводе, по-видимому, пришлись по душе предписания римского права. Митрополит Молдавии, наживший несметные богатства на торговле божьим словом, спасся от казни, бежав в горы. |
Боярин, предавший одного за другим трех молдавских господарей и ставший затем капитаном гайдуков, решил замести следы и скрыть свое прошлое, переодевшись в монаха; он был схвачен и заживо закопай в землю.
«Тюрьмы были переполнены монахами», говорится в молдавской летописи. Церковники по-своему мстили за это господарю: ни в одном из монастырей Молдавии не хранился портрет Иона-Воеводы и ни в одном из поминальников нет его имени. Сто лет спустя после смерти Иона он был окончательно вычеркнут митрополитом из списка господарей Молдавии. Но этот же церковник воспел в стихах добродетели Лэпушняну: «Он правил честно, в Слатине построил Красивый монастырь, пожалуй, лучше всех!» Вот это да! Свою ненависть к боярам и духовенству, свое презрение ко всему аристократическому Ион-Воевода иногда выражал и не прибегая к помощи палачей. В Молдавии власть имущие прикрывали свои далеко не евангельские поступки самым усердным соблюдением церковных постов; крестьяне же, наоборот, измученные гнетом бояр, боялись погибнуть, если стали бы отказываться во время поста от изредка перепадавших им мяса и брынзьг «В Мунтении бояре и народ одинаково религиозны,— замечает путешествовавший в те годы по стране монах с Востока Поль из Аллепо,— в Молдавии же даже великий пост соблюдают только высшие классы; что касается низших, то они не принимают его во внимание; они менее религиозны, чем татары, и отсутствие у них религиозных чувств приводило даже к тому, что при посещении их домов патриархом Антиохом никто не выходил ему навстречу хотя бы с ломтем хлеба...» Итак, Ион-Воевода был таким же безбожником, как и его крестьяне. Летописец Мирон Костин, бывший великим логофетом, восклицает с ханжеским испугом: «Не думаю, чтобы он был православным христианином; если бы он действительно был христианином, то не женился бы в великий пост!» Другой летописец, митрополит, называет его Ионом Злым. Каждый из них: и великий логофет, и митрополит — был по-своему прав, |
Уничтожая и бояр и монахов, имевших в то время большую силу, Ион-Воевода постарался обезвредить их: он помешал им объединиться против господаря; правда, любая коалиция слаба, если ее не поддерживает народ.
Как уже говорилось, все аристократы, как духовные, так п светские, молились одному богу: эгоизму, личным интересам, деньгам. Натравливая одних на других и в то же время уничтожая и тех и других, Ион-Воевода устраивал забавные зрелища. Отобрав, например, монастырскую землю, он дарил ее боярину; духовенство обрушивалось на бояр. Или, отобрав имущество у одного монастыря, он передавал его другому монастырю: и монастыри начинали враждовать между собой. Или, наконец, отобрав землю у одного боярина, он давал ее другому боярину; и бояре хватали друг друга за глотку. Народ радовался, видя, как его бывшие угнетатели истр***яют друг друга. Господарь смеялся, видя, до чего глупы люди. Ион-Воевода не наделил крестьян землей, но не потому, что опасался кризиса, перспективы которого не были достаточно ясны, а потому, что такая реформа могла дать хорошие результаты только по истечении долгих лет. Наделение крестьян землей за счет собственности духовенства и боярства привело бы к дроблению хозяйств, в результате чего богатые стали бы очень бедными, а огромное большинство бедных все равно не обогатилось бы, потребовались бы десятки лет, чтобы новое положение вещей вошло в норму и стало бы лучшим, чем прежнее... Ну, а до тех пор? До тех пор была бы одинаковая бедность для всех и во всем! Иногда Ион-Воевода наделял землей не только крестьян, но даже цыган, правда, он это делал лишь в тех случаях, когда они имели возможность заплатить за нее наличными; если же они не в состоянии были это сделать, он прибегал'к другим, постепенно облегчавшим их положение мерам, не приводившим к кризису, но даже способствовавшим процветанию государственной казны. Секрет нашего героя был необычайно прост: он не давал боярам и духовенству злоупотр***ять трудом крестьянина. Ион-Воевода видел, что бояре и духовенство, присваивая себе весь заработок крестьянина, нарушали интересы государственной казны, в которую они ничего не вносили, а народ не имел возможности ее пополнять. Долой злоупотр***ения! — только и всего. |
Интересно по этому случаю познакомиться с тем, как складывалась в стране земельная собственность согласно древним неписаным законам, которые были рациональны именно тем, что не являлись плодом воображения какого-нибудь министра, а отражали кровные интересы самого народа.
Бояре и монастыри не были земельными собственниками, а только оставались владельцами переходивших по наследству участков, которые когда-то князья предоставляли как пустующие, не имеющие никакой ценности земли, но которые можно было заселить людьми и извлечь таким образом из них пользу. Единственным собственником всех земель в стране был и оставался сам господарь; поэтому бояре и монастыри могли продавать, менять, закладывать или дарить свои имения, только получив специальное разрешение господаря, связанное^ всегда с уплатой налогов деньгами или натурой; при каждой из таких сделок господарь подтверждал право на земельный участок нового владельца следующими знаменательными словами: «дарится ему это село» и т. д. При таком статуте земельной собственности крестьяне имели двойное обязательства: одни — по отношению к государственной казне, другие — по отношению к получившим землю по наследству владельцам. Вот основные обязательства крестьян по отношению к государственной казне: налоги и судебные штрафы, как, например, плата за развод, за бракосочетание, штрафы за воровство, душегубины и т. д., небольшая ежегодная денежная сумма и налог натурой: овцами, свиньями, барашками. Из всех этих доходов государственной казны владелец имения имел право удерживать третью часть как вознаграждение за сбор доходов. Главными обязательствами крестьян по отношению к владельцам земли были три дня отработок: один—на пахоте, другой — на косовице, третий — на молотьбе; два раза в год — на рождество и на пасху — подарки или так называемые «подношения» в виде яиц, кур, брынзы. При правлении аристократически настроенных господарей бояре и духовенство присваивали себе на основании официальных решений или при молчаливом попустительстве все доходы, которые полагались казне и из которых они имели право только на одну треть; с другой стороны, они не хотели считаться с регламентацией крестьянских обязательств, заставляя их работать на себя и приносить подношения чуть ли не каждый день. |
Государственная казна пополнялась за счет конфискации и таможенных налогов, которые не попадали В частные ру* м1, а также от податей на мед и воск. Налоги на землю, составляющие главный доход любого организованного государства, сводились к нулю.
Полностью ограничив противозаконные права помещиков ни крестьянские доходы, Ион-Воевода тем самым обогатил крестьян, то есть подавляющее большинство населения стри пы, а собирая с крестьян только одну пятую или даже одну десятую того, что отбирал у них помещик, он как никогда пополнил государственную казну. Он стал идолом тех, кто поистине представлял собой народ. И все же он не наделил крестьян землей! Об административном гении Иона-Воеводы говорит и другой факт. При крупных торговых операциях, проводившихся прежде всего представителями высшего класса, Молдавия пользовалась иностранными золотыми и серебряными монетами, которые поступали в страну в большом количестве вэямон вывоза скота. Медных же монет было мало, и крестьяне в своих незначительных торговых операциях были вынуждены расплачиваться больше натурой, хотя такого рода оплата являлась самой ненадежной и неточной. Предшествующие господари — Деспот и Лэпушняну — чеканили государственные деньги из серебра. Они совершенно не думали о нуждах крестьян. Ион-Воевода сразу понял все преимущества медной монеты, производство которой стоило бы дешево государству и в то же самое время, обогащая крестьян, а следовательно, и государственную казну, принесло бы огромную пользу. Государственная разменная монета начала наконец обращаться 'по всей Молдавии. Кроме того, на монетах народ видел изображение господаря, который величался на них патриотическим титулом Отец Молдавии... Высокое покровительство, оказываемое народу в противовес высшим классам, имело, главным образом, как мы уже могли убедиться, финансовую цель. |
Освободив крестьян из-под ига помещиков-феодалов, Ион-Воевода сделал именно то, что западноевропейские короли сделали ранее в отношении городов. Огромные суммы, собираемые прежде от случая к случаю, превратились теперь в регулярный доход казны, который ложился меньшим бременем на отдельных граждан, но в общем был колоссальным: течение реки было изменено и направлено в пользу трона, таким образом, многочисленные разбухшие ручьи, разбросанные по всей территории страны, слились теперь в одну огромную, бурную реку золота.
Улучшив положение крестьян, Ион-Воевода имел право требовать с их стороны не только моральной признательности, но и материальной Поддержки в смысле своевременной и полной уплаты налогов, намного меньших, чем те, которые обычно взимали с них бояре и духовенство. Финансовое состояние любого государства в большинстве случаев не зависит от бедности или богатства народа, но целиком и полностью — от способа взимания налогов. Так что и бедный народ может иметь богатую казну, если сбор налогов будет проводиться энергично и организованно. И наоборот, у зажиточного народа казна может оказаться истощенной, если взимание податей проходит вяло и неорганизованно. Иону-Воеводе удалось сделать так, что деньги сами по себе потекли в государственную казну без помощи огромного числа оплачиваемых агентов, без статистических управлений, без французской бухгалтерии, без финансовых инспекторов; он ограничился тем, что с чрезвычайной строгостью применял против неплательщиков налогов уголовный закон. Лучше поменьше законов, но хорошо выполняемых! Вот что пишет Ласицкий, современник Иона-Воеводы: «Если кто-нибудь продавал без ведома господаря виноград из своего виноградника или что-нибудь другое, подлежащее обложению, ему продевали через ноздри цепь, связывали руки за спину и отдавали палачам для избиения в публичных местах; труп провинившегося оставляли без погребения, на съедение собакам!..» |
Историки ставят в вину нашему герою его жестокость.
Они неправы. Вот что сказал спустя два с половиной века Великий Наполеон, когда историки обвиняли его в жестокости: «Я всегда был на стороне большинства, зачем же мне было прибегать к преступлениям?» Какая великолепная логика! Ион-Воевода также всегда был на стороне народа. Народ его любил, как никого из тех, кто был до него и после него на троне Молдавии. И даже сами историки, его противники, все в один голос признают необычайную популярность Иона-Воеводы. В чем же тогда состоят его преступления? Нельзя назвать жестоким того государя, который ценою жизни нескольких аристократов и суровым соблюдением закона завоевывает обожание и любовь всего народа. Блестящие результаты правления Иона-Воеводы можно выразить несколькими словами. В 1572 году, когда он только пришел к власти, каких только бедствий не пережила Молдавия. Ужасная чума свирепствовала в селах и городах. Комета пугала воображение людей. Яростное наводнение затопило плодородные земли. Государственная казна была опустошена прихотями и пустыми увеселениями Богдана-Воеводы, который разъезжал в каретах, украшенных золотом и серебром. Турки и татары, с помощью которых Ион-Воевода взошел на престол Молдавии, не могли воздержаться от убийств, грабежей, насилий. Одним словом, на Молдавию обрушился целый поток горя. В течение двух лет Ион-Воевода осуществил то, о чем мечтали все великие господари: государственные финансы процветали, а налогоплательщики были довольны. |
Летописец Уреке в молодости был писарем при дворе Иона-Воеводы, но он принадлежал к одному из самых аристократических семейств Молдавии, состоял в родстве с остальными боярами, был предан духовенству и, следовательно, до глубины души ненавидел своего господина.
И все же, несмотря на ненависть, которой дышат строки его повествования, несмотря на то, что он не побоялся надругаться над самой смертью нашего витязя, несмотря на все это, летописец Уреке вынужден был охарактеризовать Иона-Воеводу следующим образом: «Умом был остер, речист, и мог бы управлять не только нашей страной, но и другими, более крупными». Подобные слова из уст врага! Не менее искусной была и внешняя политика Иона-Воеводы. К сожалению, нам известен только один маневр господаря маленького княжества, который чуть было не запутал в сложнейшем лабиринте своей коварной дипломатии три самых крупных государства Европы: Турцию, Францию и Польшу Вскоре после вступления Иона-Воеводы в Молдавию умер польский король Сигизмунд-Август. |
Он был последним отпрыском династии Ягеллонов, поэтому появилось много претендентов на вакантный трон; среди них был и Генрих де Валуа, брат французского короля Карла IX.
Турецкая Порта поддерживала его. В самой Польше его в особенности поддерживал знаменитый Ласский, который однажды помог Деспоту занять трон Молдавии, а теперь сам решил стать ее господарем; через представителей Франции в Константинополе он попросил корону Молдавии как награду за услуги в вопросе о Генрихе де Валуа. Франция начала тайные переговоры о свержении с престола Иона-Воеводы. Таким образом, молдавская политика столкнулась с французской. Проследим перипетии этой интриги. |
Вскоре после смерти Сигиэмунда-Августа Ион-Воевода посылает одновременно двух послов: одного — в Константинополь к визирю Мехмеду-Соколи; другого — в Краков, в Польский сейм.
Посол, направленный в Турцию, просил у султана помощи, обещая от имени Иона-Воеводы, что во главе войска татар он легко завоюет Польшу, ослабленную наступившей там анархией. Господарь хорошо знал, что султан, связанный дружбой с Францией, не согласится выполнить его просьбу. И действительно, визирь поспешил ответить Иону, чтобы тот воздержался от нападения на Польшу, но в то же самое время похвалил его за рвение и храбрость. С другой стороны, посол, направленный в Польшу, убеждал поляков, что стотысячная армия, состоящая из турок, татар и мунтян, воспользовавшись смертью Сигизмунда-Авгу-ста, готова напасть на Галицию, но что по милости божией этому препятствует Ион-Воевода, обратившийся к визирю Мехмеду-Соколи с просьбой предотвратить это выступление. Охваченные страхом поляки не знали, как отблагодарить великодушного господаря Молдавии. За услугу, которую он якобы оказал Польше, Ион-Воевода попросил у Краковского сейма две вещи: I. Возвращение Покутья. Стефан Великий завоевал его у поляков и удерживал до самой своей смерти. Богдан Кривой его потерял; Петр Рареш захватил его вновь, но несколько раз терял; его преемники смирились с этой потерей и в течение сорока лет оставляли 198 I кжутье под скипетром Польши, пока наконец достойный правнук великого Стефана, Ион-Воевода, не подал голоса. «Покутье — это мое достояние», — заявил он польскому сейму. 2. Возврата молдавской казны, конфискованной Польшей. |
В 1564 году Стефан-Воевода 'Гомша, убийца Деспота, бежал от Лэпушняну, пришедшего в Молдавию во главе турецких войск, но был схвачен поляками и обезглавлен во Львове по приказу короля Сигизмунда-Августа или, вернее, по требованию турецкого посла, специально прибывшего для этого в Польшу.
Томша увез с собой всю государственную казну. Поляки, эти палачи на службе султана, пренебрегая чувством христианской солидарности и законами гостеприимства, конфисковали мешки с золотом. За свой позор слепого подчинения язычникам они с легкой душой присвоили драгоценный металл. Ион-Воевода требовал теперь возвращения Молдавии этой национальной собственности. Молдавское посольство выполнило свою миссию с таким достоинством, что поразило этим Краковский сейм, который оказал ему большее уважение, чем даже императорскому Венскому посольству. Поляки не осмеливались отрицать наше право на Покутье и на имущество Томши, но они тянули с ответом, обещая дать его сейчас же после избрания нового короля. Ион-Воевода понимал, что поляки не вернут Покутье, за которое они в течение целого столетия пролили столько крови, и что при всем своем желании они не смогут вернуть сокровищ, захваченных Томшей и давным-давно растраченных и всеми забытых; но ни Покутье, ни Томша, по сути дела, не интересовали молдавское посольство. Как в Константинополе, где он подготовлял почву против поляков, так и в Кракове, где он плел интриги против Турции, Ион-Воевода добился своей цели. В Константинополе он снискал еще большее доверие турок, дабы не быть свергнутым из-за козней Франции. В Кракове, с дьявольской хитростью приписывая туркам все выдуманное им самим, он скомпрометировал их в глазах поляков, чтобы покол****ь кандидатуру оттоманского протеже Генриха де Валуа. Спустя некоторое время Ион-Воевода снова направил за границу послов, и по-прежнему одного — в Константинополь, а другого — в Краков. |
Посол, направленный в Константинополь, сообщил Оттоманской Порте, что низвергнутый с престола Богдан-Воевода собирает в Польше с помощью магнатов многочисленное войско, чтобы снова напасть на Молдавию, и что он находится уже на подступах к Хотинской крепости...
Посол, направленный в Краков, просил сейм не допустить никаких действий со стороны Богдана. Это была очередная уловка Иона-Воеводы. Богдана давно уже не было на польской территории. И все-таки турки враждебно настроились против Краковского сейма, а Краковский сейм, полагая, что Богдан на самом деле скрывается где-нибудь в Польше, разослал во все концы курьеров и секретных агентов, чтобы схватить несчастного беглеца. Все эти действия Польши свидетельствуют о том, каким грозным казался Ион-Воевода одному из самых могущественных государств Европы. Но какую же тайную цель преследовал молдавский господарь? Во-первых, он хотел вызвать в Константинополе неудовольствие турок против поляков и нанести таким образом косвенный, но чувствительный удар по кандидатуре Генриха де Валуа. Во-вторых, под видом преследования Богдана выиграть время, чтобы через своего посла плести интриги в Кракове против французской политики. Видя, что Турция, по просьбе Парижского двора, все еще щадит границы Польши, Ион-Воевода посылает третьего посла в Константинополь. Воспроизводим выдержку из письма французского агента при турецком дворе к Генриху де Валуа: «Я узнал, что господарь Молдавии послал сюда гонца, который заверяет, будто Вильно и вся Литва с согласия и по воле всего народа приняли Московского царя и будто есть опасения, что и Польский сейм ему тоже подчинится, зная, что он хорошо вооружен и находится так близко; эта весть очень встревожила турок и побудила их на вчерашнем совете принять решение о начале войны против Польши». Таким образом, дипломатия Иона-Воеводы чуть не опрокинула кандидатуру Генриха де Валуа, если бы поляки не поспешили рассеять подозрение турок. И, наконец, незадолго до решительного момента избрания короля прибыл в Краков и третий молдавский посол. Иону-Воеводе удалось перехватить два письма турецкого визиря Мехмед-Соколи, одно — к Краковскому сейму, другое— к епископу Монлюку, французскому послу в Польше. |
| Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Форум помощи больным людям - инвалидам, онко и ВИЧ больным.